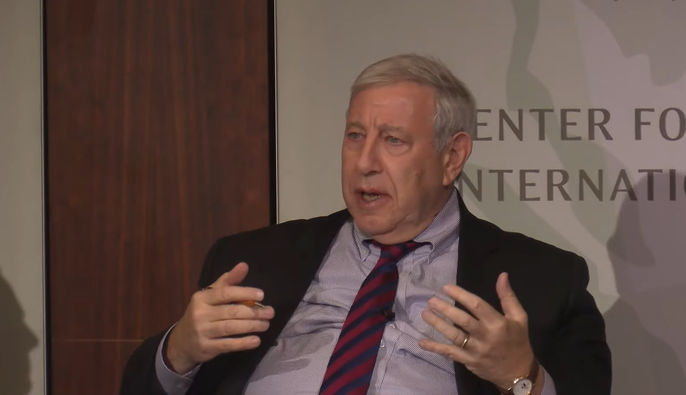В очередном выпуске еженедельной рубрики на "Апострофе" писатель Любко Дереш размышляет о больших данных, которые разрушают наши иллюзии по поводу реального уровня толерантности в обществе.
Мы убеждены, что расизм, национализм, сексизм, ксенофобия - иррациональные пережитки прошлого, и только недостаточная образованность населения делает их возможными. Между толерантностью и образованностью мы охотно ставим знак "равно", поскольку верим - чем больше информации о примирении будет в доступе, тем лучше для людей. Однако на чем держится такая уверенность?
Большие данные или big data - новое и, возможно, одно из самых точных в плане достоверности источник знаний о человечестве, которым мы сегодня располагаем. Big data - это огромные объемы информации, которые мы можем получить о людях, опираясь на их поведение в сети. Перед пустой строкой Google, как у окошка для исповеди, мы признаемся, кем является на самом деле: "Мой парень не хочет заниматься со мной сексом", "Как сделать аборт контрацептивами", "Как заставить дочь похудеть", "Признаки того, что ваша жена вам изменяет" - то, о чем мы никогда не спросили у друзей, мы спрашиваем у поисковиков.
Сет Стивенс-Давидовиц, бывший исследователь больших данных в Google, в своей книге "Все лгут" демонстрирует, как, опираясь на анализ повышенного количества расистских онлайн запросов в различных регионах США, можно было бы предсказать победу Трампа в обществе, которое во времена Обамы считалось "пост-расовым". Большие данные показывают значительно более пессимистичную картину расизма в США, чем об этом говорит обычная социология. Однако именно большие данные, к сожалению, лучше объясняют такие феномены, как поворот американского общества в сторону белого протестантского консерватизма. Американское общество значительно более нетерпимое по расового вопроса, чем это хотелось бы признавать. И, можем предположить, это касается не только США.
Насколько мы находимся в плену иллюзий о силе нашего влияния на реальность? Стивенс-Давидовиц приводит пример: после стрельбы в Сан-Бернардино в Калифорнии (в 2015 году), где люди с мусульманскими именами осуществили масштабный террористический акт, президент Барак Обама обратился к общественности Соединенных Штатов с жесткой, волнующей речью о необходимости отказа от дискриминации и о преодоления предвзятости по отношению к гостям страны (в частности, в отношении мусульман). Политические обозреватели назвали речь Обамы крайне успешной, однако сразу же после нее негатив в отношении мусульман в поисковых онлайн запросах вырос на 60%. Речь Обамы, "правильная" и "целебная" с точки зрения СМИ, только разожгла ненависть.
Понимаем ли мы, с чем имеем дело, пытаясь залечить нетерпимость между людьми с помощью спичей, агитации, повсеместного информирования населения о инклюзивности? За 30 лет, начиная с 1990-х, было сформировано современное представление о политике идентичности, эффект от которой - под вопросом. На публику мы - самые толерантные, однако при малейшей возможности проявляем свое истинное лицо. Худой мир лучше доброй войны, но цели, которые ставит перед собой цивилизованный мир - это не только социологические "потемкинские деревни" с раздутыми показателями понимания. Цель цивилизации - это движение от тьмы невежества к свету знаний и высших идеалов.
Почему же общество настолько ригидное к этому движению? Возможно, нужно, чтобы сменилось несколько поколений, прежде чем ценности уважения войдут в нашу кровь? А может, что-то не то с методами, с помощью которых мы пытаемся достигнуть нашей благородной цели?
В имеющихся сегодня подходах к инклюзивности преобладает внешний, формальный стиль: разъяснения плюс законодательное запугивания. Однако страх быть осужденным (или приговоренным), как отмечает Стивенс-Давидовиц, заставляет людей только скрывать свое реальное отношение к проблеме. Большие данные позволяют увидеть истинную картину: формальный подход не работает или работает настолько слабо, что реакционные силы в обществе при первой же возможности легко берут реванш.
Какие могут быть альтернативы сегодняшним практикам толерантности?
Первый вариант- пессимистический. Это возвращение назад к сегрегации по признакам нации, цвета кожи, вероисповедания, пола и тому подобное. Возможно, на этот раз - до сегрегации "с человеческим лицом". Возвращение к сегрегации - это признание в том, что попытки построить гармоничное мультикультурное общество провалились. Усиление изоляционной политики США (в отношении мусульман и мексиканцев) и Европы (в отношении мигрантов), несмотря на сохранение толерантной риторики, свидетельствуют о том, что идеи сегрегации постепенно играють все более существенную роль.
Второй вариант - оптимистический. Он предусматривает усиление роли религии в обществе в качестве источника вдохновения. О колоссальном потенциале религии вдохновлять человека говорят авторы доклада "Come on!", сделанной для Римского клуба в 2017 году. Вера в Бога позволяет человеку сохранять внутреннюю прозрачность в отношении собственных поступков. Человеческая совесть становится той внутренней регулирующей инстанцией, которую в секулярном обществе пытаются играть гражданские законы. Такой вариант означает реформацию отношений церкви и государства для создания в обществе умеренной атмосферы уважения, опирающейся на внутренний самоконтроль.
Примером религиозно-ориентированных толерантных общин могла бы стать Индия, которая много веков подряд объединяла не только многочисленные направления индуизма, но и мусульманства, буддизма, джайнизма. Основой такого мирного сосуществования общин является ценностное согласие между течениями. На сегодня такой вариант представляется утопическим в силу того, что многие религиозные общины сами пока не готовы декларировать принципы евангельской любви и милосердия, строго судя законом Божьим иноверцев, однако проявляя отличительную слепоту в отношении собственного порока.
Третий вариант - реалистичный. Это распространение в обществе нового типа грамотности (вроде компьютерной, правовой, экологической грамотности), связанного со способностью справляться с собственными негативными эмоциями не только на интеллектуальном уровне (чаще всего - просто скрывая их от окружающих и самого себя), но и на чувственном: внедрение культуры своеобразной психоэмоциональной гигиены. Близкими к подобной компетенции практиками можно считать элементы телесно-ориентированной терапии и гештальт-терапии.
Они позволяют освобождаться не только от поверхностных проявлений агрессии (язык ненависти, бытовая микро-агрессия), но и работать с относительно глубокими бессознательными установками на враждебность. Третий вариант означает смелые инновационные шаги в сфере образования (для всех слоев населения). Он способен сохранить здесь систему общественных отношений, которая есть сегодня, практически без потерь и может быть воплощен относительно небольшими усилиями со стороны государства и волонтерских просветительских организаций.
Все остальные варианты (вроде нейрохимического или генетического подавления агрессии) мы не рассматриваем - не только из-за их кажущейся фантастичности (которая, пожалуй, уже в ближайшие годы перестанет казаться такой), но и потому, что само представление о толерантности призвано сохранить самое ценное в человеке - целостность и неприкосновенность его личности.
Ключи к формуле мира - в гуманитарной сфере. Только понимая полностью, что такое Человек (не биологический вид, а существо экзистенциальное), мы можем надеяться, что стремление нашей цивилизации однажды таки перековать "мечи на орала", окажется не очередной страшилкой в духе Оруэлла или сериала "Черное зеркало", а мечтой, к которой действительно хочется идти.