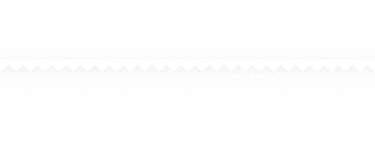Элла Либанова — ученая, академик Национальной академии наук Украины, директор Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи Национальной академии наук Украины.
В новом интервью “Апостроф TV” она рассказала, в каких единицах можно измерить украинскую стойкость, критическая ли ситуация с выездом мужчин, как нужно повышать рождаемость и какой предмет нужно обязательно изучать в школах.
– Можно ли измерить украинскую стойкость методами социологии и экономики?
Можно, знаете, через что? Экономика стоит, она не разрушилась. Если на бюджет нам деньги дают, то частный сектор сам выстоял.
Посмотрите, не успела закончиться тревога, кофейни работают. Ты можешь заскочить по дороге, съесть бутерброд или пирожок или кофе просто выпить. Всё это работает. Люди работают. Я понимаю, что им нужно жить. Но если стойкости не будет, то не будет и такового. Это наша украинская стойкость.
Если говорить о ментальной стойкости, во-первых, в первые две недели войны, можете спросить у пограничников, я у них брала данные, 200 000 украинских мужчин вернулись в Украину из-за границы, зная уже, что подписан указ президента о военном положении. Они вернулись защищать Родину, помогать своим родным. Это стойкость.
Вспомните, какие очереди были в военкомат. Как тогда мы шутили, что люди готовы были платить взятки за то, чтобы их взяли в армию. Я много случаев таких знаю, когда люди добивались этого.
– Сейчас возвращаются? Что вы фиксируете?
– Я думаю, что разговоры об уклонистах и о том, что очень много наших мужчин за границей – это, мягко говоря, преувеличение.
Безусловно, и уклонисты есть, и дезертиры есть. Они в любой стране есть. Без этого не бывает.
Но когда мне говорят о том, что многие мужчины за рубежом, в дискуссиях, скажем, со своими коллегами с запада, я всегда спрашиваю: "А кто вам сказал, что это украинцы?" Они говорят: “Ну как, они же говорят…”.
Я говорю: "Давайте я вам расскажу, как они могли попасть сюда". Это люди, бежавшие с временно оккупированных территорий. Ясно, что через российскую границу. Может быть, у них был уже даже российский паспорт. Далее они показали вам свой паспорт и вы их зарегистрировали как украинцев. А как иначе? Это первый вариант.
Второй вариант совсем трагичен. Те люди, которые, скажем, из Тюмени, - очень большая украинская диаспора, - бежали оттуда, чтобы защитить себя и чтобы не воевать против своей Родины. Вы что, исключаете это? А какой у них был выход другой? Вот они и уехали.
То есть знаете, каждую цифру, каждое явление нужно еще корректно интерпретировать.
– Мы могли бы что-нибудь сравнивать, но у нас не было переписей с 2001 года. По сути, мы не владеем информацией. Сколько человек в стране, сколько уехало?
– Что касается выезда, если смотреть данные, которые дают наши пограничники, это граница с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией, Молдовой, то по их данным где-то 2 млн 300 тысяч сальдо совокупное.
То есть количество уехавших, минус количество въехавших. Вы же понимаете, если человек едет в отпуск, если он едет в командировку, то он уезжает, но он возвращается.
Если смотреть на данные Евросоюза, Евростата, то в них зарегистрировано около 4,2 млн украинцев, пересекших их границу после 24 февраля 2022 года.
С чем связана такая огромная разница? Частично это те, кто попал в Евросоюз из-за других границ. Это может быть Грузия, Турция, Россия и Балтия.
– Я вас правильно понимаю, что ситуация с выездом людей, особенно мужчин мобилизационного возраста, не критическая?
– Я не вижу критической. Я этого не вижу. Это преувеличение.
– Можно ли делать вывод, что даже во время войны граница Украины с европейскими странами может быть открыта?
- Как бы сказать точнее? Возможно, люди не уезжают, потому что выезд сегодня это означает в определенной степени нелегальное положение. И там, и когда вернешься сюда.
– Значит, люди понимают, что возвращаться придется?
– По крайней мере, они понимают, что захотят.
Сейчас я по роду своей деятельности общаюсь с теми, кто находится за границей. Далеко не так все всех устраивает. Многие говорят, что медицина не такая и даже в Германии.
В школах не всех все устраивает. Возможно, она и не хуже нашей. Но наши дети хотят учиться со своими ровесниками в Украине, со своими друзьями. Первое поколение за границей – это всегда определенная изоляция.
Даже не первое поколение. Я когда-то была в 90-е годы в Нью-Йорке на ежегодном балу диаспоры. Это когда украинских барышень впервые представляют диаспоре. Я потом начала допытываться, как, что, и поняла, что наши женятся преимущественно на наших. Не то что в первом, а во втором, в третьем поколении. То есть адаптация, она вроде бы и есть.
– Не выходят за пределы своего ареала, да? Чем это объяснимо? Проблемы с языком?
– Проблем с языком у детей нет. Здесь не только язык, здесь образ жизни, мышления, где работают родители. Дети с детьми общаются, но и их родители должны как-то общаться.
Одно дело, если это большой город, там много украинских семей. А если это небольшая деревня или небольшой город, и там одна украинская семья, может еще одна-две?
Человек вынужденно интегрируется, если общество его принимает как своего. Это проблема, даже в Штатах, в Канаде, то есть в так называемом новом мире, что уж говорить о Европе.
Как бы ни была Европа толерантной, тебя не будут там травить, но ты не будешь там своим. По крайней мере, первое поколение точно.
– Мы потеряли во время войны много людей.
– Очень много. Из тех 4 млн, которые есть сегодня за границей, кстати, только 6% – это старше 65. Остальные – это младше 65 лет. Приблизительно треть – это вообще дети до 18 лет.
– Я раньше видел информацию такого исторического характера, что российскому царю докладывали о том, что количество украинцев достигает такого значения, что Украину удержать в составе империи будет невозможно. Существует ли вообще какая-то корреляция между жизнеспособностью государства и численностью населения?
– Нет, такого нет. Я бы говорила немного о другом. Вот такая полушутка, полусерьезная мысль, что, скажем, через там десяток лет, возможно, будут украинцы мэрами Варшавы, Праги.
Здесь вопрос не в интеграции, их будет много и они станут серьезными, как только они получат все гражданство, а рано или поздно, если они не вернутся, они будут получать гражданство, то, скорее всего, они станут очень серьезным фактором в голосовании.
Посмотрите, кто бы когда мог думать, что премьер-министром Великобритании станет индиец.
Кстати, наша диаспора, я не знаю почему, не столь влиятельна, как могла бы быть.
– Разобщены?
– Возможно, из-за этого. Не готова так ясно сказать, это нужно серьезно исследовать, причем там, а не здесь. Скажем, где она влиятельна? Безусловно, в Канаде. Смешно было бы по-другому. Слишком велика доля.
Скорее всего, в Аргентине, там очень много наших.
Довольно влиятельная диаспора, вообще мне нравится, как налажены отношения с диаспорой в Польше.
Нам нужно налаживать отношения с теми, кто выехал из Украины для того, чтобы, если они не вернутся, они были нашими лоббистами.
– А почему это сейчас нельзя делать?
– Надо делать. Когда мы говорим о восстановлении Украины после войны, критически важным будет инвестиционный климат в Украине.
Но почему-то у нас инвестиционный климат отождествляется с налоговой системой. На самом деле это, мягко говоря, не совсем так.
Безусловно, коррупция имеет значение, но скажите мне, пожалуйста, а что в Румынии, в Болгарии так все [хорошо]?
– Кстати, когда эти страны принимали в Европейский Союз, на это закрыли глаза.
– Да. То есть коррупция имеет значение, взятки имеют значение, но имеет значение наличие рабочей силы и впечатление инвестора об этой стране. Вот какова эта страна? Мирная, открытая иностранцам или закрытая, ксенофобская.
Насколько здесь удобно? Как можно снять жилье, какие здесь продукты, какая вода? Вы не представляете себе, когда начинаешь разговаривать с западным бизнесом, для них это все имеет значение.
Если уехавшие наши будут рассказывать, что в Украине, в принципе, все в порядке, у меня так судьба сложилась, что я была вынуждена уехать во время войны, просто у меня разрушен дом, мне нужно начинать все с начала, а тут у меня и работа, и то, и это, то это одно дело.
А когда будут говорить: "Да нет, там ужас сплошной", то это другое дело.
– Когда вы вспомнили о коррупции и о Румынии, я вот о чем подумал. Там была и руководительница Национального антикоррупционного бюро, которая так вшкварила эту мафию, что это был сигнал европейским партнерам, что они способны это побороть.
– Вы знаете, мы настолько сейчас поражаем европейских партнеров, что нам хватит и этого, хотя, безусловно, нужно с коррупцией бороться. Я далека от мысли, что с этим нужно мириться. Здесь проблема не только в наличии или отсутствии соответствующих органов. Мне кажется, проблема немного в другом.
Если вытащить откровенно в разговор любого украинца, что он тебе скажет? Он скажет, что нет, коррупция безусловно зло, но надо, чтобы кум в случае чего мог “порешать”. Вот и все.
– Но это исправляется системой?
– Безусловно. Но не следует думать, что можно коррупцию побороть за два года. Нельзя. Потому что это нужно очень системную работу вести.
Давайте откровенно. 10 лет назад, вы же за рулем, верно? Когда вас останавливали, что вы первое делали? Давали бумажки. Большинство так поступало. Теперь это практически исключено. Система исключила. Поэтому я очень много надежд возлагаю, во-первых, на цифровизацию.
По моему глубокому убеждению, что меньше чиновник общается с человеком, который к нему с любой просьбой приходит, тем лучше. Меньше питательной среды для коррупции. Ты же не будешь отдавать бумажки компьютеру. Это невозможно сделать, верно?
Потому цифровизация на это работает. Согласитесь, что гораздо меньше у нас сейчас наличных идет.
– Что мы должны сделать, чтобы выехавшие люди вернулись?
– Общаться с ними. Мы больше ничего не можем, только общаться с ними.
Очень важно, чтобы они знали, что никто их здесь не будет "уничтожать". Никто не будет спрашивать, "а где ты был до 1913 года, а что ты делал во времена белогвардейщины". То есть, люди должны верить, что ничего подобного не будет.
– Эти дети, они уже приедут со знаниями иностранных языков, опытом жизни в европейских странах. Когда они понимают, что если полицейский остановил, то бумажки в виде денег не нужно давать.
– Да. Вы знаете, я обратила внимание на это. У нас трудовая миграция была всегда очень сильная. Я обратила внимание, что когда человек возвращается на месяц в Украину, он за этот месяц успевает соответствующим образом повлиять на поведение своего ближайшего окружения. Даже этого достаточно. Так если мы вернем, я понимаю, что 4 млн мы не вернем, мы даже эти два не вернем, но дай Бог нам вернуть хотя бы один.
– Это будет признак, что все, война закончилась, верно?
– Вы знаете, когда выходишь на откровенный разговор с кем-то из наших мигрантов, многие говорят о том, что они боятся не только того, что сейчас происходит, но они думают, что это может вернуться через 5 лет, через 10 лет.
– Нам и до войны, откровенно говоря, активной части населения не хватало. Это тенденция не только украинская, но и европейская, да?
– Да, всегда пассионарных людей немного. Их и не нужно много.
– Страна, которой не хватает этой активной части, может наверстать развитием технологий? Наш путь – это стать высокотехнологичной страной?
Может, и обязана. Другого пути у нас нет. Совершенно. Я по крайней мере не могу увидеть [другого пути]. Если мы коллективно заболеем и начнем возрождать довоенную экономику, нам столько нужно рабочих рук, что в Европе столько нет.
Современные технологии. Мы должны изменить систему расселения, она будет у нас другой.
Потому что одно дело жить, скажем, на севере Сумской или Черниговской области, а второе – на побережье Черного или Азовского морей, третье дело – это Западная Украина, четвертое – это Центральная Украина. И пятое – это метрополисы.
Это разные образы жизни, здесь очень много разных вещей. И государство не должно говорить людям: "Ты живи здесь, а ты живи здесь, вот тебе прописка". Речь не об этом. Но из-за условий, из-за определенных стимулов можно поощрять людей жить там или там.
– Вас не волнует то, что у нас довольно часто в этой экономической дискуссии и деньги распределяются так, будто мы победили?
– Знаете, есть два англоязычных термина: sustainability и resilience.
Sustainability – это такое устойчивое развитие, когда ты заботишься не только о своей сегодняшней жизни, но и о жизни будущих людей, будущих поколений, которые будут жить на твоей территории. Ты не можешь использовать природные ресурсы, скажем, так, чтобы им повредить чем-нибудь. Это sustainability.
А есть resilience. Когда, если тебе в голову попали, ты или встанешь и ответишь, или ты умрешь.
– Вот у нас сейчас это и все ресурсы должны сюда идти. Но ведь у нас этого не происходит?
– Как вам сказать? В какой-то степени происходит.
Но это не значит, что мы имеем, скажем, всю экономику, вот часто в дискуссиях начинается: "Почему вы не переориентировали свою, не переставили свою экономику на военные рельсы?"
Одно дело, когда мне вспоминают Вторую мировую войну. Тогда была плановая экономика, тогда все шло через бюджет. Тогда сказали закрыть этот завод и пусть он производит снаряды – закрыли и выпускает снаряды. А теперь, как это можно сделать?
– Но ведь надо нам снаряды.
– Надо снаряды, мы в разы, в десятки раз увеличили выпуск. Мы упустили время перед войной. Вот тогда нужно было это делать постепенно и спокойно, и можно было многое сделать. Но тогда нам не давали ни технологии, ничего. Эти же дроны, мы же не сами их, не с нуля производили.
Теперь рассказывают о "Фламинго". Насколько я слышу военных и их объяснения, мы тоже не с нуля это начали делать. Нам помогли.
А до войны никто не хотел нам помогать. Это тоже нельзя сбрасывать с весов.
– Довольно часто мы слышим, что у россиян растет экономика, потому что они ее милитаризовали, пошли эти военные заказы. Но ведь так не может продолжаться?
– Не может. Я не специалист по российской экономике. Здесь нужно говорить с серьезными макроэкономистами и секторальщиками, владеющими информацией.
Сейчас информацию по России очень сложно получить. Но мне кажется, что это вопрос далеко не десятков лет.
Во-первых, если мы действительно за эти полгода пятую часть нефтепереработки отправили на перевооружение, то это серьезно. Если мы будем такими темпами работать, то это скорее будет.
– Вернемся в Украину. Я упомянул, что у украинцев раньше было многодетные семьи, да? Это было выбито во время голодоморов. Сейчас, во-первых, враг убивает людей. Во-вторых, многие уехали. А есть еще один момент, что люди не хотят рожать.
– Во-первых, во Франции или Германии был Голодомор? Нет, не было. Там тоже в 30-х, в 20-х годах много детей было.
Не 15, но пять-шесть. И что? И там тоже все.
– Все же Германия – это 80 млн населения на сегодняшний день.
– Если бы в Германии не было миграционного притока, там бы сокращение численности [населения] было самым высоким в Европе.
– Мигранты потихоньку замещают?
– Безусловно. Во-первых, приезжают мигранты, преимущественно молодые, которые могут рожать детей, и они рожают их. Эти дети уже граждане этой страны, где они родились. В любом случае это играет свою роль, даже если этого права нет, хотя в большинстве стран оно есть.
Во-вторых, мигранты приезжают из преимущественно из стран, где высокая рождаемость значительно выше, чем в Европе. Они эти традиции в первом поколении точно реализуют.
– Это очень волнует тех же немцев или французов?
– Волнует. Волнует и очень, потому что это размывает этнос. Этнос становится другим.
А если добавить к этому, что преимущественно приезжают люди совершенно другой культуры, то это дает знаки.
Знаете, в 2022 году было одно интересное совещание в Верховной Раде, круглый стол. Я тогда сказала, что правительства всех европейских стран, где есть наши мигранты, будут делать все для того, чтобы они там остались.
Европа стареет. Европе нужны рабочие руки, рабочие головы. А мы теряем. А тут уж, извините, каждый за себя.
– Это тоже политика России, вытеснить из Украины как можно больше людей. А с другой стороны, миграционные процессы в Украине тоже происходят. Многие украинцы уехали за границу.
– Еще больше переместилось в пределах Украины.
– Но ведь и мигранты в Украину едут, даже во время войны. Чем вы это объясняете?
– Не так много едет. По крайней мере, сравнить, скажем, с 1991, 1992 годом я не могу.
– Не случится ли так, что после прекращения войны количество мигрантов будет больше, чем количество украинцев, которые вернутся домой?
– Скорее всего, так и будет.
Всё зависит от того, как мы сможем сформировать миграционную политику. Это очень сложная вещь. Не знаю, есть ли у нас специалисты по этому вопросу.
Надеюсь, что научимся как-нибудь. Это проблема каждой страны. Я всегда говорю, что эмиграция – это проблема бизнеса, а иммиграция – это проблема власти и общества.
– Помните, во времена Виктора Ющенко была программа увеличения рождаемости украинцев. Мне кажется, была достаточно резкая реакция, в том числе и наших зарубежных партнеров, которые не разделяли идею, что количество населения планеты Земля должно увеличиваться. Не было ли такого?
– Такого не было. Они видели, что ограничение рождаемости, по крайней мере в XX веке, уже не было о нас.
Проблема всевозможных средств поощрения населения больше рожать связана с тем, что преимущественно эти средства сводятся к прямой выплате денег. Вот когда сейчас предлагают молодым семьям, рожающим ребенка, деньги, это не совсем то же, что в мирные времена, мягко говоря.
Потому что сейчас не знаю, что мы можем предложить людям с маленькими детьми? Детские сады строить? Здесь нужно дать возможность семье не обеднеть во время рождения ребенка и в первые годы после этого.
Даже если мы построим достаточное количество детских дошкольных учреждений, когда каждый час может что-то "бахнуть", как ребенка отдать куда-нибудь? Да ты будешь его у себя держать. Столько, сколько сможешь. И нужно помочь маме принять такое сложное решение, и это делать.
А вот в мирное время не на прямые выплаты денег нужно делать акцент.
Там нужно другие вещи делать, там нужно детские дошкольные и внешкольные учреждения развивать. Надо реально развивать возможности гибкой занятости. Скажем, мама работает первую половину дня, кто-то из родственников смотрит за ребенком или после этого. Надо делать возможности дистанционной занятости.
Сейчас такого, знаете ли, конвейерного производства становится все меньше и меньше, жестко завязанного вот на станок.
Проблема еще, знаете ли, как мерить это повышение рождаемости? Когда государство хочет какую-нибудь такую программу запустить, оно ее анонсирует.
Что делает современная молодая семья? Ага, через полгода будут денег давать гораздо больше. Давай отложим рождение ребенка на полгода. Это что, проблема в современных условиях?
Соответственно, что происходит? В последний год перед введением этой программы рождения сокращается значительно сильнее, чем оно, возможно, оно бы сокращалось и без этого, но значительно сильнее сокращается, чем без этого. Затем оно поднимается.
Соответственно второй год – это не столько увеличение рождаемости, сколько реализация отложенных рождений.
А дальше два-три года она держится на высоком уровне, потом снова начинает падать. Классический случай – доза-эффект. Хочешь, чтобы рождаемость дальше сохранялась, повышай выплаты. А там стоят барьеры. Причем барьеры не только бюджетны, о которых все понимают. Там есть еще один барьер. Трансфер социальный не может превышать заработную плату. Иначе это неправильно.
За исключением тех случаев, когда адресуется трансфер людям с особыми потребностями.
А во всех остальных случаях социальный трансфер должен быть меньше зарплаты. А у нас зарплаты низкие. Соответственно, невысокая зарплата является барьером для повышения выплат при рождении ребенка.
– Насколько критично падение рождаемости?
– Трудно сказать. Оно критическое. Я не люблю абсолютные цифры, потому что они связаны со многими вещами. Мне больше нравятся относительные характеристики.
Если перед войной, последние данные за 2021 год в среднем на одну женщину приходилось за всю ее жизнь 1,2 ребенка. Теперь мы думаем, что где-то 0,8.
– То есть старение нации происходило тогда, сейчас оно ускорилось.
– Нет, здесь как раз старение нации не играет роли. Это обычная украинская женщина рождает 0,8 ребенка, если все эти условия продлить на всю ее жизнь.
Во время войны я бы спокойно к этому относилась.
– Но вот Россия и Путин убивают и нерожденных детей. Убивают тем, что люди отказываются рожать.
– Если просто отказываются, есть еще шанс, что они еще родятся после войны. Сейчас же не то что раньше, когда в 30 лет уже боялись рожать. Рожают сейчас и в 30, и в 35.
– Какой вы видите Украину через несколько лет? Пять лет примем.
– Это 2030 год? Послевоенный. Будет сложно, будет тяжело. Есть много угроз, вот в частности, это не мой срок, это термин Игоря Яковенко, но он мне очень понравился, – майданократия. Есть риск того, что демократия перейдет в эту стадию.
Потому что сложно будет удержать Украину в таких, знаете ли, легитимных пределах.
– О чем бы вы очень хотели рассказать, но у вас почему-то об этом не спрашивают во время интервью?
– О психологических проблемах общества.
Об этом нужно говорить, особенно когда это касается детей. Сегодня наши дети растут в ужасных, страшных условиях. Здесь мы ничего не можем поделать, но пытаться их психику уберечь – очень нужно. И это нужно делать в детских садах, в школах, в семьях, повсюду.
– Но ведь это какие-то компетентные люди должны быть?
– Безусловно. Для этого их нужно готовить. Социальных психологов нужно готовить, причем не просто социальных психологов.
Мы волнуемся сейчас о проблемах ветеранов. Как им помочь адаптироваться? Серьезная проблема, очень сложная. Я не хочу пренебрегать ею. Но, по-моему, острее проблемы детей.
Когда мой четырехлетний внук в 2022 году сказал: "Я их умерщвлю, когда вырасту".... Нет ребенка расти в ненависти. Я понимаю, что во время войны иначе быть не может. Но нужно думать, что с этим делать.
– Есть ответ на вопрос, а как восстанавливать психику детей?
– Я думаю, что нет. В такой ситуации возможно можно пообщаться и поискать ответ у израильтян.
Вот что делают в Израиле? Надо, чтобы власть или общество не имеет значения, осознали важность этой проблемы. С моей точки зрения, это очень острая проблема.
– А что нам с образованием делать? Вы знаете, я видел информацию, что многие молодые люди не сдали экзамены по математике. А ведь нам нужна технологическая страна. О какой современной экономике мы говорим в таком случае?
– Ну, по крайней мере, математику надо возрождать в школах. И прекратить эти разговоры, что оно не нужно никому.
– Сокращали же, вы помните, часы алгебры, геометрии. Это специально такая политика была?
– Да нет. Не специально. Знаете как, и родителям, и детям гораздо проще не учить эти дисциплины серьезные.
Это вопрос политической воли. У меня была дискуссия на этот счет с Оксеном Лесовым. Он понимает эту проблему.
– Что он делает, чтобы ее решать?
– Пытается популяризировать опыт учителей, пытается их переучить, повышать их квалификацию нестандартным путем. Пытается что-то делать. Что получится, не знаю, не уверена.
– Если объяснить, что люди добрые, без хорошего образования у нас не будет ни ракет, ни дронов, а значит открытые ворота для дальнейшего вторжения в Украину. Это сработает, даже если такими категориями рассуждать?
– Думаю, что сработает. Вы знаете, я очень хорошо помню, когда США очень сильно начали уступать Советскому Союзу в космосе, когда там "белки-стрелки" были и все остальное. Что сделал Кеннеди? Математика в школах.
– Скажите, как мир относится к войне России против Украины. Как меняется это отношение?
– Оно по-разному меняется в разных странах. Одно дело – Испания, Португалия.
Второе дело – Центральная Европа. Там отличается безусловно Германия и выделяется Италия.
И третий вопрос – это близкие страны. Потому что эти страны Балтии, та же Польша, та же Финляндия прекрасно понимают…
– Что они могут быть следующими?
– Да. А уж в Чехии не так сильно понимают. В Германии, как ни странно, происходит излом в нужном для нас настроении. Но в Германии и Италии, как мне кажется, он происходит сверху.
– От правительства?
– Да. От конкретно канцлера [Германии Фридриха Мерца] и от [премьера Италии Джорджи] Мэлони.
– Вы видите, что будет расти этот синдром, который называют усталостью от войны?
– Вы знаете, не вижу я такого. Я бы сейчас видела противоположный процесс. Потому что я же говорю, больше всего изменилась политика, риторика, по крайней мере, элиты. А это очень важно.
– Что нужно сделать всем украинцам для победы?
Каждый на своем месте должен делать все, что может. И не думать, даже просто в голову не думать, что может быть иначе. Не может быть по-другому. Не будет иначе. Иначе нас не будет. Вот и все.