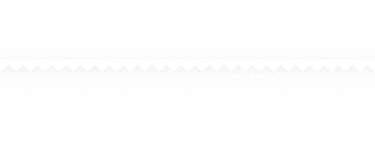Во второй части интервью "Апострофу" российский галерист, политтехнолог и арт-менеджер МАРАТ ГЕЛЬМАН рассказал о причине отъезда из России, катастрофе, которая ждет страну, и том, что будет, если Владимира Путина снесут.
Первую часть интервью читайте здесь: Крым может отделиться от России, когда она будет распадаться, — Марат Гельман.
— 2014 год признан рекордным с точки зрения эмиграции. Кто, по вашим наблюдениям, сегодня уезжает из России?
— Понятно, что уезжают больше, чем раньше. Но если посмотреть вглубь этой статистики, то вы увидите, что уезжает Москва, те, кто пробился, у кого есть возможности. Москва в каком-то смысле уже была Европой, люди поняли, что надо, пока они не потеряли своей компетенции, ехать в другое место, потому что тут становится опасно. Да, уезжают, но не должно быть никаких иллюзий.
Я тут делаю мощный проект (речь о Dukley European Art Community, который должен с помощью привлечения художников, проведения фестивалей превратить Черногорию в один из культурных центров Европы, — "Апостроф"). Но когда ко мне обращаются коллеги, которые связаны с языком, писатели, журналисты (те, кто хочет покинуть Россию), то я говорю — я ничем не могу помочь. Их жизнь, профессия, творчество жестко привязаны к русскому языку, они не смогут интегрироваться в новое общество. Для них это катастрофа. У кого-то, допустим, ситуация другая — родители нетранспортабельны и так далее. Обманывать себя тем, что все хорошие люди могут уехать, нельзя. Огромное количество достойных, умных, талантливых людей останутся и станут частью этой катастрофы.
— Вы тоже переживали, сможете ли интегрироваться, говорили, что нервничаете из-за того, что надо учить новый язык. Уже восемь месяцев прошло с момента вашего отъезда, как вам живется на новом месте?
— Да, с января я живу в Черногории. У меня все, как в сказке. То, чем я занимаюсь, и момент в развитии Черногории — мы совпали в одной точке. Мне повезло. Это постиндустриальный мир, который никак не наступает, в котором люди культуры и искусства занимают такое же место, как в индустриальном мире — люди науки и техники. Оказалось, что в Черногории все готово к тому, чтобы перешагнуть из одного мира в другой. Я пытался заниматься этим в России.
Однако на родине Марата Гельмана, по его словам, не услышали. Он не раз выступал с программами развития через культуру перед различными законодательными собраниями, но в ответ слышал, что надо все силы бросить на восстановление заводов, несмотря на то, что они давно потеряли рынок. "Было лобби, которое постоянно боролось с этим постиндустриальным миром, — вспоминает галерист. — Тут, в Черногории, этого нет. Хорошо это или плохо, но за годы санкций была уничтожена промышленность, зато сильно развилось побережье, и страна повернула экономику в сторону туризма". Развивать сельское хозяйство в этой стране сложно, зато благодаря уникальной природе можно снимать кино, резюмирует Гельман.
"Мне тут никого не надо было уговаривать, я просто получил зеленый свет. Черногория оказалась единственной страной, которая не потеряла в мае русских туристов, все остальные европейские страны потеряли до 30%. Половина доклада министерства туризма Черногории была о моей деятельности. Я бы сказал, что у меня карт-бланш, и мы даже расширяемся", — говорит он и добавляет, — благодаря тому, что в российских СМИ с начала его деятельности было порядка 80 публикаций о черногорском проекте, российские турагентства включили информацию о культурной программе Гельмана в свои предложения. И турист поехал.
— Вам, пожалуй, в таком случае, процент от прибыли турагентств полагается.
— Вы знаете, я всю жизнь работаю не на процент, а на мемориальные доски (смеется). Невозможно одновременно зарабатывать и славу, и деньги. Я давно уже выбрал славу, мне уже 54 года, уже не разбогатею, такую задачу не ставлю. Я изначально работаю на страну.
— Если в Черногории по-прежнему так много россиян, общаетесь ли вы с соотечественниками, с российскими туристами, что обсуждаете?
— Тут нет такого разделения — черногорские жители и российские туристы. Тут так: черногорские жители, российские жители, есть люди, у которых здесь имеется своя недвижимость, и они приезжают сюда на лето, как на дачу. Да, есть и туристы. Вне сезона, с октября по начало мая, у нас каждый четверг проходят клубные лекции, мы приглашаем каких-то интересных людей. Проект, который я делаю, он же не русский, он европейский, и если взять художников, то украинских там не меньше, чем русских. Есть афганские, хорватские, американские художники, такая интернациональная тусовка. А русский клуб — это своего рода моя общественная нагрузка. О чем я разговариваю с ними (россиянами)? Надо понимать, что уехали не все, но интересуются возможностью отъезда все. Любой разговор с соотечественниками через некоторое время превращается в разговор: "А если бы я сюда переехал, то как это легализовать, сколько стоит купить жилье, компанию, бизнес, а чем бы я тут занимался?". Эти вопросы так часто задавали, что у нас была такая welcome-программа, и мы сейчас ее выделяем в отдельную компанию, которая будет помогать людям переезжать в Черногорию.
— Это будет бизнес-проект?
— Да. Здесь есть заинтересованные институции, которые будут оплачивать минимальную помощь, а человек, который хочет переехать, ее получит бесплатно, деньги на него пойдут от черногорских компаний. Если какие-то крупные бизнесы хотят переехать, и они требуют особого обслуживания, то это будет отдельная история. Мы поможем встретиться с мэром, у нас очень серьезные возможности поддержать тех, кто решил приехать в Черногорию.
— Вы упомянули сотрудничество с украинскими художниками. С кем работаете?
— В субботу мы открываем выставку Юрия Соломко, живет в Киеве, родом из Крыма. Андрей Базюта из Львова, видеохудожник, делает для Будвы проект "Живой город". У него резиденция уже закончилась, но мы помогли ему здесь с какими-то заказами, это очень талантливый парень.
Dukley European Art Community финансирует приезд одновременно десяти художников и реализацию их проектов по таким направлениям, как "Сделано в Черногории" (совместные проекты с местными творческими людьми или институциями, которые могут представлять страну в мире), "Новые достопримечательности", "Паблик-арт" (к примеру, уличные фестивали). Художник, чей проект окажется наиболее интересным, сможет приехать в страну на месяц-два и на месте воплотить свою идею в жизнь. "Мы работаем для Черногории. Мы не занимаемся популяризацией российской культуры, — поясняет Гельман. — Когда Сергей Дягилев делал в Париже "Русские сезоны", у него не было задачи собрать там русский мир, он хотел активизировать культурную жизнь Парижа в результате такой интервенции". Гельман хочет также популяризировать Черногорию, превратить бывшую провинцию Белграда в "провинцию всех столиц", куда бы все хотели попасть.Сейчас у Гельмана открыто 36 мастерских для художников, но он уже готовится искать новые помещения, поскольку такой формат работы пользуется большим спросом.
— Вы когда-то говорили, что "один художник важнее ста министров". Среди людей искусства в России сегодня многие поддерживают генеральную линию, касается она аннексии Крыма или запрета на ввоз импорта, но есть и те, кого причисляют к "национал-предателям". Кто вас больше всего удивил за последние полтора года своей позицией?
— Я не хотел бы обсуждать моих коллег. Люди живут в конкретных обстоятельствах. Идет разрушение страны. В этой ситуации могут быть разные стратегии — уехать из страны, как в моем случае, попытаться что-то сохранить или заниматься подспудной работой, писать романы в стол. Поэтому я никому не судья.
— Может, тогда поговорим не о людях, а о тенденциях?
— У нас долгое время была единая художественная среда. Внутри нее были люди с разными позициями. Там могли быть и вполне провластные люди. Например, коммунисты, такие как Дима Гутов (известен своими инсталляциями "Над черной грязью", "Б/у", участием в Венецианской биеннале и так далее), Анатолий Осмоловский (cоздатель движения "Э.Т.И.", автор кампании "Против Всех") или правые, как Алексей Беляев-Гинтов (в 2008-м был награжден премией Кандинского в номинации "Лучший проект года" за выставку "Родина Дочь"), но это была одна среда, и искусство оценивалось по своим критериям. Когда давали премию Захару Прилепину, то ее давали не за его позицию, а за его литературу. А сейчас власть пошла на то, чтобы поделить общество на две части: официальную, где политические пристрастия совпадают с властными, и ту, где не имеют политических пристрастий и выступают такими конформистами. И эта среда в творческом смысле будет очень беспомощной, тлетворное общение с властью для художника не остается без следов, потому что он начинает делать конъюнктуру. И еще есть андеграунд, и для них это тоже плохо, потому что они оторваны от каких-то финансовых ресурсов, площадок, возможностей показывать свое искусство. У нас был уже андеграунд, это довольно вялый цветок.
Поэтому можно сказать, что сам процесс разделения артистов на лояльных, государственных, разрешенных и на нелояльных, оппозиционных, запрещенных для культуры очень губителен. А то, что есть какие-то люди, чьи позиции совпадают с позицией власти, ну, нормально, они должны быть разные. Опасны сами действия власти по расколу, разделению людей. Ну и эти подписные кампании (например, в поддержку аннексии Крыма, — "Апостроф") вызывают отвращение, но человек, подписавший такое, может прийти, начнет объяснять свои мотивы, и ты ему не судья. Но люди, которые с помощью таких кампаний среду раскалывают, мой гнев и критика — этим людям, а не тем, кто считает, условно говоря, что "Крым наш".
— Когда-то в России ваше фото в компании еще трех коллег по цеху вывесили с подписью "Нужна ли такая культура?", в частности, вам вменяли то, что вы "собрали оскорбления верующих под одной крышей на выставке Россия-2". А какая культура нужна России сегодня?
— Тут каждый художник решает сам для себя, даже если найдется тот, кто скажет — искусство должно быть революционным, так это он говорит про свое искусство. Другой скажет — искусство не может иметь никаких отношений с политикой, то это опять же про свое искусство. Искусство делается личностями. Был период, когда художники объединялись в группы, движения, течения, но это всегда были в первую очередь личности. Это же не корпорация. Власть может обеспечить условиями — свободой, художник должен чувствовать себя свободным, современным, потому что нам часто пытаются сказать, что современное — это не искусство, а называть им можно только то, что копирует образцы прошлого; искусство также должно быть частью глобального художественного процесса.. Даже если ты опираешься на русский или украинский фундамент, то ты должен говорить на интернациональном языке — свободном, устремленном в будущее и в мир. Вот такое искусство нужно.
Марат Гельман считает, что России сегодня надо преодолеть ряд проблем, поскольку страна остается изолированной еще со времен СССР. В 1990-е частично эта изоляция была разрушена, но затем все вернулось на круги своя. Искусство в России остается сверхцентрализованным и концентрируется в Москве, немного в Питере. "Эта проблема существует со времен Петра Первого, — подчеркивает Гельман. — Есть некие глобальные рамочные задачи, но для каждого художника это всегда персональный рассказ. Мне бы хотелось, чтобы люди искусства стали некой силой, которая сыграет свою роль в этом "Богородица, Путина прогони" (песня скандальной группы Pussy Riot, — "Апостроф"). Я сегодня пока таких ресурсов не вижу". Мощи российскому искусству сегодня добавляет отсутствие сильных политических фигур, на этом фоне люди искусства, пусть далеко не все, но остаются свободными. "На фоне того, что все уже уничтожили, люди искусства выглядят сильными политическими фигурами. Борис Акунин выходит на улицы и за ним — десятки тысяч людей. Не потому, что это правильно, а потому, что реальная политика полностью уничтожена", — говорит Гельман.
— Когда-то вы участвовали в организации акции "Новые деньги", когда был разработан дизайн купюр от 1 до 100 рублей с изображениями Юрия Гагарина, Льва Толстого, Александра Пушкина и других известных российских персонажей. Вы говорили, что это — ироничная реакция на призыв Бориса Ельцина "создать новую русскую идею", поэтому и воплотили ее в купюрах. Сегодня какой была бы новая русская идея в вашем представлении?
— (Смеется) Дискредитирована сама идея. Я считаю, что мы должны влиться в Европу и сделать так, чтобы люди жили как в Европе. История России интеллектуальная, история мысли, философии — это постоянная дискуссия между теми, кто считал, что Россия — это Европа и теми, кто был уверен, что Россия — это Азия или некий особый мир. Но сейчас идет процесс глобализации, в котором время важнее места, и выстраивание границы между Европой и Россией означает границу между сегодняшним днем и завтрашним днем. Если бы вдруг оказалось, что Путина нет, есть свободная Россия и можно сделать новый политический проект, то я бы делал Европейскую партию.
— Вы полагаете, что годы пропаганды еще не привили большинству россиян отвращение ко всему западному, и такую партию люди бы восприняли?
— Ну, давайте вспомним нацистскую Германию или коммунистический СССР. Мне проще, я могу себя вспомнить, я до 12 лет ждал этого коммунизма, ведь все было всерьез и надолго. И вот мы видим, как быстро это все меняется.
Гельман верит, что массовое сознание можно изменить, если дать людям правдивую информацию, наказав при этом виновных. И приводит в пример секретарей обкомов, которые на его глазах превращались за пару лет в постоянных посетителей храмов. "Может, это не очень хорошо говорит о человеческом материале, что он такой пластичный и гибкий, но это так", — отмечает он.
— Но это ведь может быть не свидетельством каких-то внутренних изменений, а просто конформизмом — все пошли в храм, и я пошел.
— Ну, мы тут не спрашиваем о мотивах, а говорим о действиях.
— Как вы относитесь к этим историям с уничтоженным барельефом Мефистофеля в Санкт-Петербурге (барельеф — часть петербургской легенды, считается, что там изображен Федор Шаляпин, игравший роль Мефистофеля в опере "Фауст"), разгромами произведений в музейно-выставочном объединении "Манеж" представителями движения "Божья воля"?
— Мне это давно знакомо, потому что Гельман делает острые выставки. Если их не делать — то и проблем якобы не будет. Но сигнала, что этого делать нельзя, они не получили. И тогда начинаются погромы выставок с классическим искусством. Это мракобесы. Они чувствуют какую-то поддержку власти, которой надо на кого-то опираться, вот она и опирается на наиболее консервативную, невежественную и темную часть нашего общества. В каком-то смысле, это результат этой политики. Точно так же, как те ребята, которые возвращаются с Донбасса и, когда их останавливает гаишник, начинают кричать: "Как ты мог меня остановить, я воевал!", да, его посадят, но это не значит, что он не является результатом действий властей.
В нынешней ситуации ключевое слово для людей искусства — это солидарность. У нас могут отобрать свободу, могут несправедливо посадить, но если брать эту революционную триаду свобода-справедливость-солидарность, то единственное, чего у нас не могут отобрать — это солидарность. Надо ее высказывать, преодолевать внутри себя этот страх. Я позавидовал питерцам (которые осудили вандалов), насколько была яркая и интересная ситуация с Мефистофелем, ведь когда я был членом Общественной палаты и бился с Юрием Лужковым за памятники архитектуры в Москве, мне удалось 50 памятников спасти, а разрушено за это время было 300. Мне не удалось тогда активизировать наш творческий класс, а в Питере сейчас это произошло. В каком-то смысле борьба против вандалов вернула Питеру статус культурной столицы, несмотря на такого мракобеса-губернатора, люди сами это сделали. Так что то, что происходит в Питере в связи с Мефистофелем, мне нравится. А то, что происходит с погромом выставок в Москве, мне не нравится.
— Почему питерцы смогли, а москвичи не могут?
— Даниил Коцюбинский (российский журналист и историк, — "Апостроф") говорит, что в Питере основная религия — это архитектура, а христианство — это вторая религия по популярности. Питер — город, который единственный сохранил свой архитектурный облик первозданным, для них архитектура является сакральной. Выходит, там покусились на святое, столкнулись две религии.
— В Москве, выходит, такого сакрального нет?
— Ну, это не архитектура точно. Пока не нащупали.
— Когда вы только собирались уезжать, то говорили, что, набравшись опыта, вернетесь в Россию, чтобы делать новую культурную политику. Все еще намерены это сделать или уже передумали?
— Мои планы по поводу Черногории оказались более серьезными, чем я думал, когда уезжал. Она меня увлекла, тут появились новые возможности. Жизнь, значительная ее часть, прожита: у меня огромное количество друзей, много дел, которые я делал в России, стали частью какой-то российской истории, истории искусства. Потому это точно мне небезразлично. Черногорский проект тоже оказался очень интересным и судьбоносным. Тут все зависит от времени. Если Путина снесут в течение трех-пяти лет, то у меня еще будет возможность приехать и принести какую-то пользу стране. А если это случится через 10 лет, то уже, наверное, нет. Я жду.